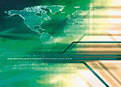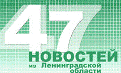|
|
…Рейсовый
автобус от станции метро «Автово» довозит меня до Ропши чуть более, чем
за час. Раннее утро, еще только начинает светать (я любитель ранних
поездок), и по пути едва различимы Красносельские ворота (мы едем по
Кингисеппскому шоссе) – они высятся на площади-перекрестке серой, чуть
подсвеченной громадой. Миновали Кипень, садоводства, памятник-танк на
возвышении по правую руку – вот и моя остановка. Она называется
«Школа», но надо мне не в школу, а в местную Администрацию, где ждет
меня сотрудник Администрации, специалист Алексеев Денис Владимирович.
Он – краевед и историк и будет моим гидом во время краткой экскурсии.
Вниманием Денис не обделен: районная, областная пресса, недавно
приезжало телевидение. Ропша вытянулась более, чем на километр, вдоль
шоссе Стрельна-Ки-пень, и нам нужен транспорт. Детей к школе подвозят
два специальных автобуса, желтого цвета, те, кто постарше и живут
поближе, идут пешком. Справа от дороги – спящий парк. Я вспоминаю свою
прогулку по нему в конце июня этого года: было зелено, солнечно,
журчали ручейки, пели птицы (их было множество), кое-где попадались
руины мостиков, и я даже вроде бы набрела на остатки памятника, история
которого, как мне позже рассказал Денис, полна загадок и предположений.
Сейчас же я слышу только карканье одинокой вороны, сидящей на верхушке
высокой старой ели у самой дороги: я даже останавливаюсь поглазеть не
нее – уж больно забавно она раскрывает при карканьи клюв. Занимается
новый день, и над черными деревьями видна многоцветная «подсветка»
утреннего восхода: зеленоватая, беловатая, розовая, темно-синяя,
оранжевая, голубая полосы следуют одна за другой, пока не уступают
место серому небу, с которого падают маленькие белые «мухи»-снежинки.
Зрелище завораживающее, и ради одного этого стоило уже приехать, тем
более, что длится оно минут десять: потом полосы исчезают, небо
проясняется, из-за деревьев появляется огненный диск солнца.
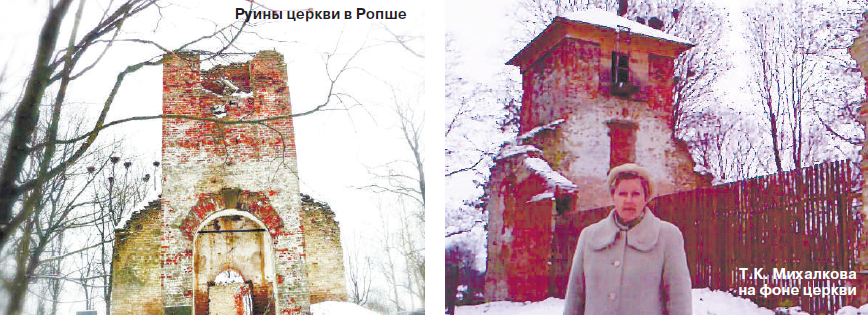
В
Ропше лежит плотный снежный покров, особенно на кладбище и Княжьей
горке, куда мы вскоре поедем, и у Дворца, обнесенного забором в
ожидании реставрации.
Древнейший памятник Роп-шинского поселения
– руины Петропавловской (Дмитриевской – в честь Дмитрия Солунского)
церкви (16 век), не раз менявшей свою конфессиональную принадлежность,
многократно перестраивавшейся и несколько раз переосвящавшейся. От
старой церкви осталось совсем немного, а в 80-ые гг. прошлого века
здесь еще стояли своды. Это видно на одной из фотографий, прикрепленных
к кладке. Есть и фотография, изображающая первоначальный вид церкви –
такой она была 200 лет назад и такой ее хотят восстановить сейчас. Есть
и другая фотография – церковь в полукружии немецких крестов: захватив
Ропшу (она была освобождена 19 января 1944 года), фашисты безжалостно
выкинули с кладбища останки русских людей и устроили там свое
захоронение. Иначе поступили советские власти после окончания войны:
немцам было предложено вывези останки своих солдат с кладбища и
перезахоронить их, что и было сделано, и теперь те, кто незаслуженно
обрел покой на православном кладбище у Дмитриевской церкви, нашли приют
у себя на родине, в Германии. Здесь же – новые захоронения, уже второй
половины 20 века. Церковное кладбище действующее. Интересно, что на
одной из стен церкви сохранилось углубление: в таких углублениях Петр
Первый помещал декоративные геральдические щиты - гербы завоеванных
русскими войсками городов. Атмосфера религиозного объекта – некогда
кирхи, лютеранской церкви, православного прихода – «чувствуется до
мурашек». Сам дом, где Петр Первый плотничал и столярничал, был по
правую сторону от дороги (это собственно и есть Княжья горка). Обо всем
этом рассказывает мне Денис, он же фотографирует меня в Ропше. Мы едем
дальше к источнику Иордань (муниципалитет любезно предоставил в наше
распоряжение машину). К самому источнику подойти не удается –
территория огорожена, но фотографируюсь на фоне старого каменного
мостика и пруда, где купался еще сам Петр Первый. Источник Иордань
обладал целебными свойствами – вода его слабоминерализованная и
гидрокар-бонатнокальциевая. Петр Первый подал прекрасный пример
обустройства курортов для лечения в местах, где есть подобные
источники, «открыв» Ропшу. В Интернете можно прочесть, что сюда
приезжают до сих пор, и не только поправить здоровье. Иордань называют
«местом силы», где можно очистить и укрепить дух.
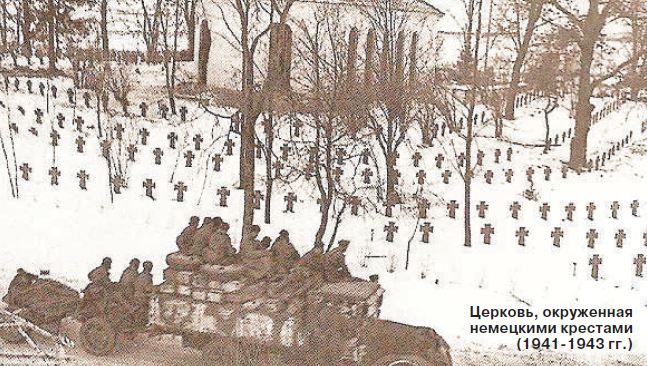
Ропша известна
еще и тем, что именно отсюда Петр Первый решил подвести воду к фонтанам
Петергофа и Стрельны. Для этого был создан мощный и совершенный водовод
длиной 22 километра, использовавший понижающийся рельеф местности между
Ропшей и Петергофом. Петергофские фонтаны не имеют насосов, они
действуют по принципу сообщающихся сосудов. По дороге, за высоким
забором, видны руины Дворца и некоторые хозяйственные постройки, в
частности, здание конюшен. Конное дело с 90-х гг. прошлого века
приобрело в Ропше силу, здесь есть свой Конный завод, и функционирует в
теплое время года ипподром – но они в другой стороне. Ко Дворцу вдоль
забора пробираемся по узкой заснеженной тропинке. Вот и знаменитые
руины. Историю Ропшинского дворца, проблемы, стоящие перед зданием
теперь, я подробно излагала в своей предыдущей статье, посвященной
Ропше (см. «Под Ропшей реконструировали бой», газета «Колтуши» № 9, от
30 июня 2016 года). Перед Дворцом, еще на открытой территории, слева –
высокий дуб. За деревом следят: Денис рассказывает мне, что недавно его
«каркас» укрепили тросами сотрудники ГМЗ «Петергоф». Справа – широкое
поле, использовавшееся ранее как футбольное. Вдали – захоронения
советских воинов. Дворец весь в лесах. Снег не скрыл его плачевного
состояния.
Мы садимся в машину и едем по направлению к
Яльгелево: Денис рассказывает мне, что военные реконструкции проводятся
здесь постоянно – благо местность к этому располагает. Заснеженные
склоны и не замерзшее озеро выглядят совсем иначе, чем в июне, но я без
труда узнаю место, где 26-го июня была свидетельницей реконструкции боя
первых дней Великой Отечественной войны.
Шоссе на Яльгелево
делит парк на две части: левую, уже приведенную в порядок, и правую,
еще пока запущенную. «Здесь, наверное, не гуляют …», - говорю я
задумчиво. «Почему же», - возражает Денис, - «вон смотрите, сколько
тропочек проложено». Очень красивы пруды в это зимнее время: спокойные,
спящие, обрамленные снегом: Артемьевский по правую руку и Ивановский –
по левую. Что бы хотелось сказать в заключение? Колтуши далеко от
Ропши, и проблемы здесь вроде бы разные, как разнятся с исторической
точки зрения и сами эти сельские поселения. Но есть одна общая проблема
1990-х годов, включающая бесхозяйственность, безответственность,
равнодушие, кощунство, вандализм по отношению к памятникам истории и
культуры. Проблема всей России.
Очень хочется надеяться, что эта
проблема будет как-то решаться и разрешаться – в отдельном сельском
поселении, а значит, постепенно и во всей стране в целом. Я думаю, что
еще смогу прийти в отреставрированный Ропшинский Дворец с внуком,
рассказать ему сложную и трагическую историю этого здания …. Вот только
когда это будет? Когда внуку исполнится десять, или пятнадцать, а,
может, двадцать лет? Но, если придется ждать так долго, я вряд ли уже
смогу это сделать.
Татьяна МИХАЛКОВА
[к содержанию номера]
|