|
|
Мы продолжаем публиковать интервью
с доцентом кафедры компьютерного проектирования аэрокосмических
из-мерительно-вычислительных комплексов Государственного университета
аэрокосмического приборостроения Михаила Евгеньевича ТИХОМИРОВА. 35 лет
его жизнь была тесно связана с Колтушами. Отец нашего героя, тогда
заведующий Всеволожским РОНО, получил квартиру в Павлово, неподалеку от
Института физиологии. Миша Тихомиров пошел в Колтушскую среднюю школу
им. ак. И.П. Павлова, уже в 6-ой класс в середине 60-х…
«ВТОРАЯ СМЕНА» - ПЕРЕЖИТОК ПРОШЛОГО
ЕК:
Михаил Евгеньевич, с тех пор, как вы приехали в Павлово впервые, как
говорится, много воды утекло… Каким тогда был центр поселка и сильно ли
он изменился сегодня?
- Мне очень нравится, как выглядит теперь
озеро. Плохо только, что рядом с ним не очень ухоженная нижняя часть
парка, где когда-то, в наше время, была летняя детская площадка. Жалко,
что ее пока не думают восстановить. Институту, конечно, это вряд ли
нужно, он передал подобного рода полномочия местным властям. Но если бы
кому-то было дело до таких вещей - конечно, такая площадка была бы
полезна, чтобы дети не слонялись, не болтались где попало в свое
свободное время...
ЕК: А в Ваше время, когда Вы учились, в Колтушской школе была вторая смена?
-
Да, была. Это сейчас «вторая смена» - пережиток прошлого, а тогда это
было обычным явлением. Вторая смена была у меня и до этого, в 177-ой
школе в Ленинграде… Была она и в Кол-тушской школе. Но в то время
вторая смена была действительно неизбежна, детей было очень много. Я
попал в Колтушах в 6 «Г», а был еще и класс «Е», то есть по шесть
классов на параллели. В старших классах детей стало поменьше, но все
равно классов пять оставалось…
ПАВЛОВСКИЕ КИНОФОРУМЫ
ЕК: А как вы проводили в Павлово свободное от учебы время?
-
Помимо обычных подростковых занятий, мы бывали в зале Института, где
постоянно выступали интересные люди. Это были те же самые ученые, но в
необычном амплуа: альпинисты, туристы. Они рассказывали о том, где им
доводилось побывать. Там было принято рассказывать о своей поездке, о
впечатлениях, если кому-то выпадала удача съездить заграницу. Кроме
того, там, в зале Института, бывали настоящие кинофестивали. Мы там
смотрели кино как минимум два рада в неделю, и стоил билет пять копеек.
По тем временам - смешные деньги. К сожалению, потом в поселке
появилась другая публика, и кожаные кресла в этом кинозале были
перерезаны ножичками и бритвочками… Все испортилось, киносеансы
прекратились. Но пока все это было, там можно было увидеть знаменитых
артистов, режиссеров, которые приезжали выступить перед учеными. Все
это осталось в памяти…
ЕК: А что еще из Вашего «павловского» окружения запомнилось, а может быть, и повлияло на дальнейшую жизнь?
- У меня были потрясающе интересные соседи. Например, в моем доме жил профессор Леонид Алек сандрович
Фирсов (на фото), известный специалист в области исследования
человекообразных, «приматолог». Именно он руководил лабораторией
физиологии поведения приматов, которую местные всегда называли
«обезьянником». Она находилась в парке. Помню и Михаила Михайловича
Левашова, видного ученого, изобретателя, который работал в «лаборатории
Кислякова», лаборатории вестибулярного аппарата, где одно время
работала и моя мама. Я могу приводить много примеров из того времени… сандрович
Фирсов (на фото), известный специалист в области исследования
человекообразных, «приматолог». Именно он руководил лабораторией
физиологии поведения приматов, которую местные всегда называли
«обезьянником». Она находилась в парке. Помню и Михаила Михайловича
Левашова, видного ученого, изобретателя, который работал в «лаборатории
Кислякова», лаборатории вестибулярного аппарата, где одно время
работала и моя мама. Я могу приводить много примеров из того времени…
ЕК: Вы сами стали ученым и преподавателем именно потому, что в свое время «поварились» в научной среде?
-
Сложно сказать. Я не берусь утверждать, что я вырос в интеллектуальной
научной среде, потому что мои родители все-таки не были учеными. Отец
мой, будучи заведующим РОНО, был с одной стороны - учитель, а с другой
- чиновник. А мама была просто техническим работником: она печатала
книги и диссертации. Учитывая, что у нее было всего семь классов
образования, она это делала на удивление грамотно и хорошо. Перед
войной мама окончила школу и больше поучиться ей не довелось. Но при
этом она писала без единой ошибки и исправляла профессорские черновики
только так - очевидно, у нее была врожденная грамотность. Я же, хотя и
был только рядом, а не внутри научной среды в моем детстве, всегда
любил и сейчас очень люблю Колтуши именно за этот непередаваемый дух,
удивительную ауру «научной деревни»…
«НАУЧНАЯ ДЕРЕВНЯ» = КАМПУС?
ЕК: А каким Вам видится будущее таких специально созданных «сообществ», как Павлово? Есть ли у них будущее?
-
Не знаю насчет будущего, а настоящее есть точно. Я счастлив, что
Павлово существует в этом статусе до сих пор. Нечто, связанное с
наукой, там и сейчас происходит, несмотря на то, что многие ученые в
последние 20 лет уехали заграницу. Кстати, я убежден, что эта форма -
концентрации ученых в одном месте и создание им благоприятной среды для
работы, о чем так заботился Павлов, очень правильная. Когда у ученого
нет очевидных бытовых проблем, а лаборатория находится рядом с домом,
это многое дает. Пришла тебе в голову интересная гипотеза - ты пошел и
поработал в своей лаборатории ночью, если тебе это нужно. Так что, как
бывший житель Павлово и преподаватель - я за кампусы, где и жилье, и
аудитории, и исследовательская база сконцентрированы в одном месте. Но
такая форма организации образования и научного процесса, конечно,
требует вложений. Если на территории Ленинградской области, разумеется,
где-то недалеко от города, появится такой образовательный центр - это
будет сила.
Беседовала
Ева КОЛТУШСКАЯ
[к содержанию номера]
|


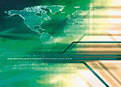


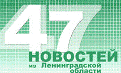


 сандрович
Фирсов (на фото), известный специалист в области исследования
человекообразных, «приматолог». Именно он руководил лабораторией
физиологии поведения приматов, которую местные всегда называли
«обезьянником». Она находилась в парке. Помню и Михаила Михайловича
Левашова, видного ученого, изобретателя, который работал в «лаборатории
Кислякова», лаборатории вестибулярного аппарата, где одно время
работала и моя мама. Я могу приводить много примеров из того времени…
сандрович
Фирсов (на фото), известный специалист в области исследования
человекообразных, «приматолог». Именно он руководил лабораторией
физиологии поведения приматов, которую местные всегда называли
«обезьянником». Она находилась в парке. Помню и Михаила Михайловича
Левашова, видного ученого, изобретателя, который работал в «лаборатории
Кислякова», лаборатории вестибулярного аппарата, где одно время
работала и моя мама. Я могу приводить много примеров из того времени…